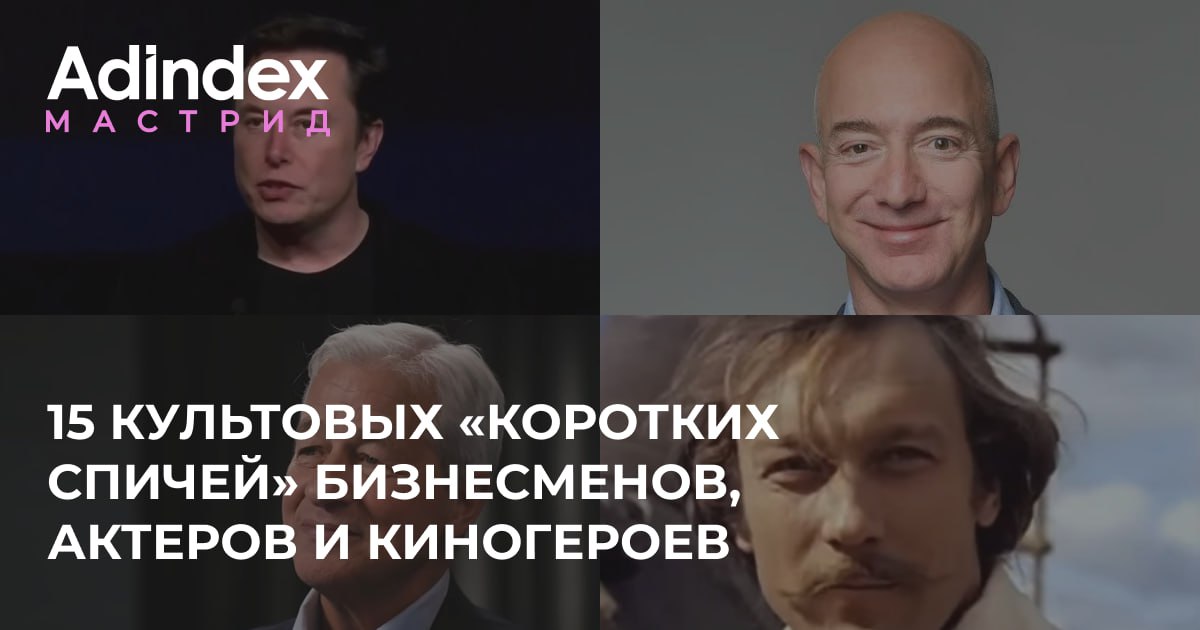Нужно ли отменить PR-образование в вузах?
В очередной раз развернулась бурная дискуссия вокруг высшего PR-образования, вплоть до предложений о его ликвидации. Школа коммуникаций НИУ ВШЭ подготовила ответ

 Ольга Пескова,
Ольга Пескова,
Профессор Школы
коммуникаций Факультета креативных индустрий ВШЭ
Как пишет телеграм-канал Беспощадный пиарщик, «любые попытки сделать из него научную дисциплину с треском терпели, терпят и будут продолжать терпеть крах». И все потому, что связи с общественностью — это не профессия, а ремесло, обучить которому, как и гончарному искусству, можно только на практике. По мнению участников древнего как мир спора, дорога в PR должна быть проложена через качественное гуманитарное образование.
Бессмысленно адвокатировать PR-образование через отрицание пользы гуманитарных наук, которые поднимают общий уровень культуры и развивают критическое мышление. Среди маститых пиарщиков встречается множество выпускников филфака, историков, журналистов, социологов, психологов и даже программистов. Это просто объяснить с исторического ракурса: на заре формирования рынка PR в России профильного образования в вузах не получали, обучались преимущественно «в полях», компенсируя недостаток специальных знаний чтением переводных книг по Public Relations. А приток разношерстных кадров в индустрию всегда был связан с тем, что эта сфера комфортна и питательна для творческих интеллектуалов.
При этом другой престижной и хорошо оплачиваемой работы для гуманитария в России нет и не было. Даже сейчас, в отличие от современных практико-ориентированных программ по PR, классические факультеты гуманитарных наук продолжают штамповать специалистов с неопределенной профессиональной идентичностью, которым сложно интегрироваться в суровый корпоративный мир.
Впрочем, ни один диплом не дает гарантированного и мгновенного успеха в профессии: есть обладатели двух или даже трех дипломов, которые не могут работать ни по одной специальности.
И возвращаясь к парадигме, ставшей уже штампом, — «PR — это больше чем профессия, это образ мысли и образ жизни», стоит отметить, что и само PR-образование уже давно трансформировалось в коммуникационный менеджмент, демонстрируя не только академический подход к наполнению дисциплин, но и «сильную функцию» управления репутацией и корпоративными связями с помощью математики, статистики и новейших цифровых инструментов. И на эту трансформацию ушло почти 20 лет — с момента включения PR в Общероссийский классификатор профессий.
Кому выгодно критиковать PR-образование
Призывы торпедировать PR-образование, заменив его «качественным гуманитарным», больше напоминают поколенческий снобизм, вызванный опасениями перепроизводства PR-специалистов, готовых потеснить на рынке ревностно охраняющих свои владения «зубров». Кроме того, существует серьезный ментальный (а не образовательный) разрыв между генерацией первых пиарщиков и молодой «шпаны», которая врывается в крепко сбитый и закрытый клуб.
Снобизм выражается, помимо прочего, в отрицании способности молодых специалистов «достичь высот и глубин профессии», доступных более зрелому поколению.
Именно поэтому «зрелое поколение» много говорит о призвании, ошибочно принимая его за реализованность. Реализованность — это следующий шаг для специалиста с дипломом. И наша ответственность в том, чтобы на его место не пришла разочарованность в индустрии и в профессии, которую кто-то оскорбительно называет «симулякром». Забавно, но на этом «симулякре» выросло несколько поколений успешных и вполне реализованных людей.
«Колледжи существуют для того, чтобы производить жетоны», — произнесла когда-то Адриана Рич в своей знаменитой речи в колледже Смита. Но PR-образование уже не просто «корочка», открывающая возможность занять начальную ступень в неформальной иерархии пиарщиков. Благодаря современным вузовским программам сегодня это достаточно системная прокачка технических навыков, построенная на крепком фундаменте теоретических моделей.
Истоки дискуссии о PR-образовании
Вопросы к качеству PR-образования уже потеряли свою остроту. Да, выпускники первых университетских программ по связям с общественностью получали лишь теоретическую подготовку, позволяющую понимать отраслевой язык и рассуждать о PR-инструментах. А профессиональные навыки приходилось осваивать уже на рабочем месте. Логическая цепочка, в которую выстроился вход в профессию — через профильное образование, совмещенное с практикой и стажировками в пресс-службах и агентствах, — решает проблему разрыва между теорией и практикой.
Тем не менее в профессию по-прежнему можно прийти с «черного хода» — без диплома о высшем PR-образовании, благодаря мотивации, связям или удачному стечению обстоятельств. Исследование 3000 резюме профессионалов разного уровня, проведенное недавно Vinci Agency, показало, что только 29% специалистов получили образование по направлению «PR и связи с общественностью». Оставшиеся 71% окончили факультет журналистики, международных отношений, политологии, менеджмента, маркетинга, юриспруденции и др. И это лишь подтверждает тот факт, что PR — профессия инклюзивная и она по-прежнему подпитывается кадрами из разных гуманитарных областей.
То, что большая часть нынешних PR-специалистов не имеет профильного образования, – это, как говорится, не их заслуга, а наша недоработка.
Возможно, для таких кадров наиболее оправданной представляется модель второго высшего образования или магистратуры.
Кто, как и кого учит
Подводя итог этой дискуссии, стоит разделить проблему на три вопроса: кто учит, как учит и кого учит? Как писал несколько лет назад профессор Григорий Тульчинский, большинство преподавателей пришли в PR из гуманитарных наук и «продолжают петь свои “старые песни о главном”: кто о доминанте Ухтомского, кто о каналах коммуникации, кто о психологии общения, кто об опросах и анкетировании…» Безусловно, это раздражало практиков, ставивших себя выше тех, кто «пороха не нюхал». И примирить этих антагонистов можно, только признавая, что теория PR — наука прикладная, она не строится на абстрактных моделях, как в фундаментальных науках. В современном формате преподавания она строится на осмыслении реальной практики, работающих моделей и концептов.
На вопрос «кто учит?» можно ответить на примере Школы коммуникаций Факультета креативных индустрий ВШЭ и ряда других вузов, занимающихся подготовкой PR-специалистов. Во-первых, среди преподавателей и профессоров программы «Реклама и связи с общественностью» много практиков, совмещающих преподавание и работу в PR. Во-вторых, работает серьезная спайка с бизнесом — начиная от стажировок до деловых игр с реальными проектами и бизнес-кейсами. Именно так потенциальный работодатель видит своих будущих «звезд», а студенты — индустрию с разных ракурсов.
И наконец — кого мы учим? Вот он, вопрос профессиональной идентичности.
Многие пришли за красивыми сказками о Саманте Джонс и Нике Нейлоре из культовых фильмов, другие — из-за представления о супервысоких зарплатах.
И наконец, третьи — и их большинство — воспринимают PR как технологичную дисциплину и возможность получить концентрат фундаментальных знаний и теорий коммуникации в симбиозе с множеством полезных hard-skills. Это и исследовательские изыскания, и работа с Big Data, изучение Python, и креатив — стратегический, текстовый, визуальный и работа с нейросетями. Они хотят стать учеными, исследователями, политтехнологами и специалистами по HR-бренду, UX-дизайну или геймингу. Кто-то открывает собственный стартап. Пишет музыку и продюсирует группы. Создает собственные медиа и ведет телеграм-каналы. Хочет настраивать воронки, вести коммуникацию 360°, интегрировать медийные и digital-коммуникации, решать кризисные кейсы и создавать новые нарративы. Все это дает современное PR-образование. И наша задача — пробуждать креативность, навыки анализа ситуации и командной работы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.